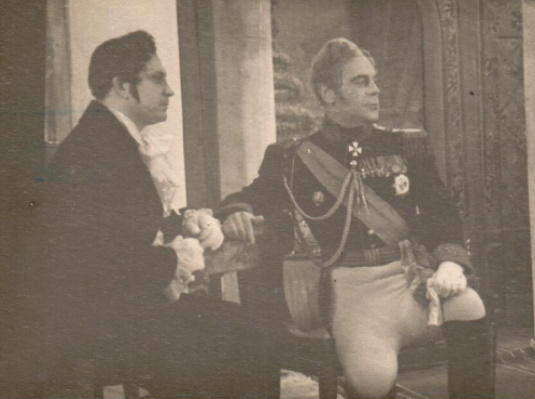Мне бесконечно жаль. История исполнения одного танца.
Эта история исполнения песни была рассказана мне по возвращении с репетиции сыном певца Дмитрием Ивановичем Шмелёвым.
Вечный танец в исполнении артистов Императорский театров. Фото из свободного доступа.
бесконечно любимому учителю певца.
Танго, звучное и яркое или отчаянно-безысходное, но неоспоримо наделенное огромной властью своими обнаженными, откровенными эмоциями над разоренными мировыми событиями душами публики, сделалось, пожалуй, самой большой ее страстью тех межвоенных лет. Их было много, разных и по темпераменту, и по стилю, и по размеру. Оно танцевалось и пелось, и в зависимости от того, какое несло собой содержание, было окрашено в страстные или лиричные тона.
Вот то самое, о котором сегодня пойдет рассказ.
Tzigane moqueur dont l’œil s’éclaire
Pour mieux lire en mon cœur
Dans ce même point
Où tu fut témoin
Le bonheur a fuit
Bien solitaire
Je reviens chaque nuit
Твои вспыхнули очи,
В сердце горькую тайну прочли.
И, сюда, где ты помнишь,
Как счастье спугнул я,
Каждый раз
Возвращаюсь один.
перевод Юрия Шагурина
Появление красивейшего танго тех десятилетий окунает слушателей в глубокие времена, когда люди даже представить себе не могли, что через несколько лет тот радующий всех праздник распускающейся жизни, та милая опьяняющая экономическая беззаботность и расцвет стильности, закончится вселенским кошмаром. Люди были счастливы, просто общались, встречались, любили, расставались, тосковали. Это танго оттуда, из той давней истории наших ушедших предков.
Оно, прекрасное и кажущееся совершенно нашим, проделав сложные пути, возможно, начав дорогу с родины своей, пришло в Европу. И там, окрасившись современными музыкальными тонами и получив свой первый текст, исполнилось и полюбилось. И двинулось в Россию на излете войны. И пусть нам почти об этом «бесконечно жаль», но исторически оно все-таки не наше. А потому имело весьма хрупкую начинку, большое изящество, в котором таился загадочный подтекст. На самом деле, а о чем же оно? И не все так однозначно.
Его оригинальное название «Цыган играет». Автор слов — француз-песенник Луи Потерэ. На этикетке пластинки, обитающей в фондах одного венесуэльского университета и Доминиканского Карильо, упомянут еще один француз — Андре Содемон. А о создателе музыки сказать вот так сразу непросто. Сами французы отмечают композитором некоего Левиннека, возможно, чешского автора Курта Леви, оказавшегося во Франции лишь после войны. А может, эта мелодия создалась в 1937 году другим Левинником, сегодня нами забытым, та самая, милые черты которой мы узнаем и сейчас?Первым фондовым исполнителем танца стал оркестр под управлением Марселя Каривена, а замечательно спел его Тино Росси.
Затем, покинув военную Европу, пройдя оживление заново прорисованным мотивом, с облегченной для иного сюжета темой и смещенными акцентами, написанными к нему совершенно другими стихами, с другими ценностями и содержанием, таким оно прижилось в нашей стране. Таким оно любимо и слушаемо сейчас на просторах родного русского языка…
Для его рождения нужно было, чтобы встретилось три человека, три автора-исполнителя. Это было возможно тогда. Уже тогда были не просто написаны и напеты, но изумительно исполнены знаменитые танго досорокового периода. Триумвират Розенфельда, Намлегина, Виноградова просто сводил слушателя с ума. Клеймившая джаз-исполнителей интеллигенция отошла от дел. Новый для страны стиль выходил из подполья и становился попутчиком правящих властей. Это позже невинное простое исполнение этой пьесы уберут с каналов вещания на долгие годы. Но нам повезло, сегодня оно снова с нами.
Поэт Борис Тимофеев-Еропкин появился на свет божий в 1899 году в Москве в весьма образованной инженерской семье. После выпуска из классической гимназии дебютировал со стихами в периодической печати и почти сразу же был причислен к Всероссийскому союзу поэтов. По завершении учебы в Ленинградском университете трудился адвокатом, ни на день не забывая выражать себя в литературном творчестве и поэзии. А с началом войны, оказавшись запертым в окруженном дорогом ему городе, уже зрелый автор участвовал в рождении блокадного коллектива художников «Боевой карандаш», где рассказывал свои цепкие ироничные истории. В мемуарах актера Анатолия Королькевича о тех ленинградских днях есть строки памяти о нашем писателе: «Громадный кабинет бывшего дворца какого-то бывшего великого князя, а ныне секретаря Куйбышевского райкома партии Николая Васильевича Лизунова. Янет читает пьесу. Ему аккомпанируют свист и разрывы снарядов. Напряженные лица слушателей, освещенные лучами коптилки, как бы перекликаются с нарисованными на стенах панно в стиле мастеров эпохи Возрождения. Все сидят в шубах, и только писатель-сатирик Борис Тимофеев лежит на диване — он болен острой дистрофией. Лицо перевязано бинтом, его мучают фурункулы, и все же, превозмогая боль, он острит». И все кругом знают его таким неунывающим и дерзким, еще свежа такая его юморная песенка:
Тебя просил я быть на свиданье,
Мечтал о встрече, как всегда,
Ты улыбнулась, слегка смутившись,
Сказала: «Да, да, да, да!»
Поэт Борис Тимофеев-Еропкин. Фото из свободного доступа.
А потом, окрепнув духом и здоровьем, он повез этот свой юмор и веселье в 1944 году в Москву в редакцию самого смешного журнала «Крокодил». Там, в его родной столице, у него должна была состояться еще одна важная встреча…
Встреча с человеком, блеск и популярность которого в тот год были непререкаемы, а солнечный луч его натуры дотягивался до каждого слушателя.
Родился он в семье парикмахера Наума Вульфовича Цфасмана. Уже малюткой вдохновенно играл на скрипке и фортепиано. В тринадцать обладал первой премией за исполнение Одиннадцатой рапсодии Ференца Листа. В 1925−1930 годах был студентом самого главного музыкального храма страны — Московской консерватории — по классу фортепьяно, которую окончил, однако, с золотой медалью.
С непринужденностью, соответствующей жанру, собрал первый джазовый оркестр Москвы и с такой же непринужденностью первым записал его на грампластинку «Аллилуйя». Редкие деятели музыкальной среды не отзывались в сочных словах о блестящей технике исполнителей, главным образом, об их боссе-виртуозе. А о его необычных авторских аранжировках знаменитых произведений тогда вовсю уже слагались стихи.
В 1932 маэстро организовал ансамбль «Московские ребята», выступая с ним в ресторане «Савой», вовсю гастролируя по стране. А в тридцать шестом ярко поставил себя в московских «Вечерах джаза». Там впервые Александр Цфасман, так уверенно набиравший свой стиль и успех, в закулисье пересекся с молодым студентом отделения сольного пения по классу профессора Ксении Дорлиак, теплым бархатным баритоном неслыханной красоты Ваней Шмелёвым, и запомнил его.
Ваня Шмелёв — солист песни. Фото предоставлено Дмитрием Шмелёвым.
А с 39-го и на момент повествования событий сделался художественным руководителем джаз-оркестра Всесоюзного радио, где все наши герои снова встретились впервые после начала войны. Они — поэт, композитор и первый солист ансамбля НКВД, любимец публики тех военных лет — встретились для работы над песней, еще не звучавшей в огромной стране на большую аудиторию. Борис Тимофеев не так давно получивший переработку музыки с новой мелодией уже набросал слова и готов был представить их своим партнерам. И был это вовсе не ироничный, искрящийся гротеском облик, этот образ носил очень трогательный лиричный цвет, непохожий на привычные посылы его автора в литературе. Но друзья-товарищи знали того, с кем трудились рядом. На первый взгляд ершистый и ироничный человек на самом деле был ранимым и трогательным и очень давно писал такие же ранимые и трогательные тексты для своих любимых исполнителей. «Под окном черемуха колышется», «Пой, цыган», «Караван» не несли в себе и привкуса цинизма и насмешки, проникая в самую сердцевину слушательской души.
Так иногда в томительной пустыне…
Пусть впереди все призрачно, туманно,
Как наших чувств пленительный обман.
Мы странно встретились, и ты уйдешь нежданно,
Как в даль уходит караван.
Караван (Б. Прозоровский- Б.Тимофеев) Петр Лещенко
Заинтересованно, и с тем терпеливо ожидая реакции, автор дал коллегам увидеть текст нового опуса. Цфасман, скользя глазами по строчкам, вполне понятливо кивнул в ответ. А Шмелёв, зажмурив один глаз и слегка наклонив голову, готовый к любому повороту событий, может даже к спору, загадочно уставился на Тимофеева.
— Что, Вань, что-то не так? — смутные предчувствия захватили поэта: — Я сразу тебе скажу, что эта песня мне видится очень лиричной, ласковой прямо, безо всяких там общественных нажимов, вот ты понимаешь, недавно на выставке ленинградских художников я видел статую, которую автор назвал «Девушка — рабочий»; под таким названием она и была включена в каталог. Позволительно спросить: а не лучше ли было (правильнее, точнее, красивее) дать ей название «Молодая работница»? Ваня, не нужно петь даже с малым оттенком омужествления.
«Понял и услышал», — певец согласно качнул головой и повернулся к композитору-дирижеру в ожидании его приговора. Рассмеявшийся приятель отреагировал, значительно подняв палец вверх:
— Ваня, ты должен спеть это вот как. Мне нужен твой красивый тембр, очень красивый, вот такой, какой он у тебя есть и все, остальное решай сам.
— Хорошо, только я буду петь это безо всяких там приторных страданий, придыханий возбужденных, без томных всхлипов. Меня учили петь по трем правилам, я всегда им следую.
— Что за правила?
— Правила моего педагога в консерватории: просто, правдиво, душевно.
— Ты у кого учился? — музыкант с любопытством глянул на певца, такого нетерпеливого сегодня.
— Ты что спрашиваешь? — к диалогу присоединился поэт: — Однозначно он учился у Дорлиак Ксении Николаевны, она же всем была известна именно этими правилами, об этом весь культурный Ленинград еще пока помнит.
— Он этого пока не знает, он в тридцатом закончил, а она только пришла в Московскую из Петроградской.
Поспешил отреагировать Иван.
— Из нашей то есть. Вот у нас, ленинградцев, всегда был выдающийся вкус.
— Да ты же сам из Москвы и не выпендривайся давай. А ты, Ваня, не корчи из себя аристократа и подумай, как, но давай выразись по полной: тебе должно быть бесконечно жаль, запись через день.
— Мне было жаль, можно сказать, бесконечно жаль, когда пел им «Землянку», «Смуглянку», особенно «Дан приказ ему на Запад». Как только представлял, что эти мои герои не встретятся никогда, и мне было так их жаль, вот слов нет таких, прямо слезы текли, когда пел. Вы думаете, перед бойцами легко петь? Кому-то может и так, мне — нет. Вот я каждый раз смотрел на них, когда пел, смотрел на их лица, такие усталые, измученные в боях, они прямо на ходу засыпали, я понимал, что вот они сейчас здесь все мои, безо всякой натяжки принадлежат мне, вот я махну рукой и все за мной пойдут, так им наша музыка была нужна, как отрада прямо. А через день или даже через час кого-то уже из них, из этих лиц больше никогда не будет, а я пою им и делаю вид, что все отлично. Изучаю их и думаю, кто из них останется, а кого не будет, а кто-то вдруг мне нравится больше других. Мальчик был один такой вот черноволосенький, кареглазенький, на меня похож, худой как грач весенний, и такой взгляд у него восторженный, так он меня слушал, радовался мне. Вот я после концерта всю ночь думал, только бы не он, а потом ловил себя на мысли, как вот я так думать могу, никто не должен, а все равно только бы не он. Даже потом узнавал о нем, жив ли. Жив, чертяга, остался. Найду его после, точно найду.
И что-то вспомнив, Иван мечтательно задумался своими мягкими карими глазами.
«Дан приказ: ему на запад, ей в другую сторону.
— А вот про эту пьесу красивую я думаю, что мне жаль только, что уже опаздываю за молоком для Митеньки.
— Митенька? А это кто?
— Я женат, товарищи мои дорогие, вы не слышали? В сорок втором женился.
— Брось, Ваня, женат, ты? Не может этого быть. Долго держался, она, наверное, королевишна, не меньше?
— Она — женщина, это главное. А вообще вы почти угадали, адмиральская дочка. Но дело-то совсем не в этом, а в том, что она — моя любимая женщина. И сейчас она кормит нашего сынишку, ему через месяц годик исполнится, и мне прямо сейчас нужно отвезти им молоко.
И тут певец довольно рассеянно посмотрел на серебряный ручной циферблат с прорисованным на нем Георгиевским адмиральским флагом, подаренный ему к главному событию таким важным тестем.
— Мой мальчишка должен расти самым здоровым, я обменял свою карточку. Война идет, а я, предатель, радуюсь, потому что скоро ужас этот кончится, потому что мои все живы, здоровы, даже родители в Воронеже целы. Я стал мужем и отцом. И, черт возьми, я счастлив. И мне вот сейчас ничего не жаль. Может, это нечестно что ли, я понимаю: война, люди гибнут. Но будет ведь и победа. А любовь? Ее никто не отменял, она есть и все. Друзья мои, черти, ну не могу я петь о сожалении.
Иван Дмитриевич, прикусив губу, слегка пожевав ее зубами, уже вовлекаясь в процесс, нетерпеливо продолжил.
— Я обязательно буду петь эту песню, но только о счастье, именно о счастье, но, понимаете, об очень сокровенном и хрупком. О том, как страшно мне ее, мою любимую, разочаровать в себе. И не потому, что это случится, очень надеюсь, никогда не случится, а потому, что я очень трепетно к ней отношусь. И еще о надежде на то, что не случится этого никогда, и о каком-то страхе, что, а если все-таки вдруг? И об этом тоже буду петь. Когда только лишь представлю возможность того, что разочарую ее, от этого мне и правда становится бесконечно жаль. Я буду петь о Мужчине и Женщине, можно так, по-другому у меня не выйдет, просто не получится. И совсем последнее, и я уже бегу: только «твоих»… Я буду петь «твоих», не «своих», ребята. «Своих» — это крушение кода культуры, как учила меня Ксения Николаевна, даже крестьянин сказал бы, ты мужик или нет, если «своих»? Чего хнычешь? Так ведь может случиться, как бы выразиться, обесценивание этого самого кода, кто его сохранит, если не мы. Это же песня не о Нем, а о Ней. И эта история для меня совершенно прекрасна, потому что я всегда буду сходить с ума от одной мысли, что могу причинить ей боль…
Драгоценная семья. Фото предоставлено Дмитрием Шмелёвым.
Борис Тимофеев задумчиво посмотрел вслед удаляющемуся мастеру: «Он очень необычный, этот певец Иван Шмелев, он пойдет своей дорогой. Много нас таких, которые могут стоять на своем и бороться за культуру содержания, зная, что потом его обязательно обесценят? У многих исказителей русского разговорного языка, как мы уже видели, есть одна любимая отговорка: «Так говорят». Некоторые для большей убедительности выражаются торжественнее: «Так говорит народ» или «Так поет народ», но в том и есть талант художника — идти своим путем».
Вот примерно такой разговор произошел накануне озвучивания этого в один месяц ставшего обожаемым «бестселлера». Но именно из этих реплик и переживаний его участников и рождается шедевр, а вовсе не из того, что однажды композитор встретился с поэтом и певцом. Они готовы записать песню так, как решили. И если потом они будут что-то делать и петь все дальше и дальше от нее, нарушив тот прекрасный код, о котором так вдохновенно говорил Иван, то поведут слушателя к невзыскательности. Каким он будет после них? Насколько требователен к исполнению? Зависит только от них, если не поймет их, значит, они просто не донесли.
А наш певец умчался за молоком для своего ребенка так прозаично и немузыкально, без мук и поисков и творческих терзаний. Но не совсем это так, эти скрытые поиски были, они случились с ним гораздо раньше. Тогда, когда он воронежским «синеблузым» агитбригадником, дотащив до дома из рюмочной своего отца-клепальщика с вагоноремонтного завода, забыв о всех на свете пошлостях и грубостях прорывался к зрителю, любя его и принимая в ответ его взаимность. Когда, уехав с постылого порога в Московскую консерваторию к единственному в мире для него педагогу по предмету жизни, став его любимцем, готовил с ней и исполнял оперные партии уже для новых зрителей, так называемых, вокальных, и радовался им, когда понимал, что они говорят уже лично о нем. А главные его поиски? Они и сегодня оставались с ним. Он обнаружил для себя с огромным восторгом, что ему дано такое счастье что-то суметь рассказать, может, даже повести за собой. Так он чувствовал, когда пел все ему, своему зрителю, в окопах под Ельней, в Брянских лесах, под Сталинградом, на концертах-ревю в Москве под налетами и бомбежкой. Там он, теряя после боев этих зрителей, превозмогая огромную боль от таких потерь, преодолев и поборов в себе ненависть, научился любить, потому что, на самом деле, «созидает только любовь».
И сегодня он умчался на свидание с такой простой каждодневной любовью к семье, к подруге, к малышу. За ней и к любви ко всему живому и дышащему, что поможет ему спеть эту судьбоносную пьесу.
Ведь суть этой формы такова — он слишком хорошо еще с 30-х помнил восхитительно ароматное танго, гениально спетое боготворимым Георгием Виноградовым, и такие главные строки в нем — «вам, возвращая ваш портрет, я о любви вас не молю, в моем письме упрека нет, я вас по-прежнему люблю!» Он отлично ведал интуицией своей, то были заключительные отголоски прекрасной уходящей эпохи последней осознанной галантности, эпохи кавалеров и дам, эпохи преклонения перед явлением женщины. И зная это, он своими возможностями стремился стать хотя бы немного причастным к этим событиям и пусть ненадолго, но эту, волнующую его воображение, эпоху продлить…
Это трогательное и робкое переживание мужчины во вверенном певцу романсе о том, что он оказался причиной разочарования самой его близкой и важной, стало совершенно искренним именно в прочтении Ивана, потому как он именно так видел это. И обязательно старался донести, если сложится, до своих драгоценных и очень дорогих ему слушателей: его герой непременно примет на себя и испытает большое сожаление не за свои утраченные чувства. Да, он, такой непривычный мужчина, понимал, что казался многим рядом нелепым, даже смешным в этой своей личной парадигме. Но не оглядываясь на других, чужих ему, и осознанно, и сердцем своим, и даже с гордостью любовь к Ней и всему земному ставил во главу всего на свете.
Он — творец и мастер — пытался рассказать об этом и дать нам услышать, что женщина была для него символом жизни, ее главной ценностью. Если хотите, его мировоззрением.
Так он никогда и не позволял себе называть подругу по сцене «Анькой дурой», да еще и в одном обороте речи, как случилось написать в статье о нем некоторым журналистам. Он берег и щадил девичьи силы, всюду пропуская партнерш вперед себя. Вот не воспользуется он никогда своим большим оперным голосом, чтобы перепеть, перекричать их, только аккуратно проводит по пьесе, преподнесет нежность и красоту голоса солистки. Его задача только-то оттенить ее пение своим мягким баритоном. Он даже споет в полголоса. Так учила его самый дорогой педагог.
Впервые сказала люблю (М.Вайнберг — М.Дудин) с Викторией Ивановой
Он боготворил ее, всегда помнил о ней, цитировал, как Библию, того самого автора трех волшебных заповедей его мастерского исполнения. Он был к ней бесконечно привязан, к своей Ксении Николаевне, порою до безмолвного восторга заслушивался ее речами о пении, музыке, вкусе в искусстве. Вот не будь ее, как бы он сумел закончить консерваторию? Хватило бы его? Но когда рядом был человек-символ, так хотелось ему нравиться, быть для него самым лучшим, выполнять все, что он просит выполнять. И ради того, чтобы он всегда-всегда хорошо о тебе думал, готов ну вот разбиться, но суметь. Вот и трудился он. Постановка голоса — ломовое действие, да и поставленный голос еще не пение. Пение — это когда всегда высокая позиция, всегда опора, всегда верное распределение дыхания, да так все это должно быть само собой, чтобы всем слышалось, что петь — легко! Голос — это инструмент внутри, поэтому он особенный, порой проявляющий себя так поздно, что уже поздно и вовсе музыку учить. А он, неотесанный мальчишка, бывший слесарь с завода где клепают паровозные котлы, ввязался в профессиональный вокал без фортепьяно, без сольфеджио, без наследственной культуры. Так загорелся он, вот и был готов своей дремучести идти наперекор. И его Ксения Николаевна с добротой и участием помогала ему во всем: мучилась вместе с ним над интервалами, билась над фортепьяно, учила петь и говорить, и проживать прекрасные образы с душевной простотой и сердцем. И он от «до» до «до», вот как она ему велела, так через жизнь все эти правила пронес: «Ванечка, договаривай слова до конца, это редко бывает. И, главное, Ванюша, пой всегда, как говоришь». И он пел, как говорил. И никогда ни во что чуждое ему, наносное и неестественное не вдавался, избегал позерства и крика, не упивался голосом — хранил запас ноты. И в этом был он верен ей всегда. А когда она покинула его, не задумываясь, назвал в память о ней свою дочь.
Ксения Дорлиак — Татьяна. Фото из открытого доступа.
И не только Ксения Дорлиак была ему дорога. Он без усталости заботился о вдове своего очень близкого человека, своего партнера, своего композитора Валентина Макарова, когда она, потеряв самого родного своего, вдруг погрустнела, потемнела и стала медленно и верно таять в этом своем безысходном одиночестве. Он привозил ей, наравне со своими малыми, подарки, приглашал на семейные уютные вечера, да и просто, когда ей было слишком холодно, навещал ее со своею женой Настей.
Большой друг Валентин Макаров. Фото из свободного доступа.
Он любил жену, такой обаятельный, известный, вполне успешный мужчина. Балованный вниманием поклонниц красавец, на самом деле он был предан ей одной. Он родил с ней троих очень желанных детей и родил бы еще больше, просто не успел и все. Он просил своего друга-преподавателя и его супругу заниматься с ней музыкой: Виталий Давыдов, самый что ни на есть прямой ближайший потомок знаменитого партизана, учил ее играть на пианино, а его Александра Федоровна — петь. И сам пел с ней, своей Настей, о прекрасном, раздвигая условности профессионализма. Он не прятал нежность к любимой от своего растущего Митьки, поступком своим раскрывая ему, какая у них желанная жена-мама: укутывая ее пледом, укладывая себе на колени, напевал для нее их личные «Ласковую песню», «Верный друг», «Тропки-дорожки».
Любимая Настя. Фото предоставлено Дмитрием Шмелёвым.
Верный друг (А.Островский — Я.Белинский)
ok.ru — источник видео Иван Шмелев Тропки дорожки
И их сын, как в зеркале отражающий своего дорогого родителя, трепетный и неиссякаемый в своей теплоте, бережно, по-отцовски общающийся с музыкой, с текстом, с солистами своими, дирижировал такую же большую любовь нам. А послеконцертными посиделками со свечами, пирогами и вишневкой, атмосферно поддерживая общую болтовню по теме «Расскажи мне о себе», трогательно вспоминал: «Мы, наверное, были одними из немногих детей в тех советских семьях, которых не принесли аисты и не нашли в капусте. Они нас родили вместе, мы знали это всегда. Нам никто никогда это не объяснял, не рассказывал об этом, не выставлял напоказ, но мы всегда знали, что они вместе. И понимаете, я даже когда рос, становился юношей, не ревновал никогда. Это было свято что ли. Когда отец приезжал с гастролей, он был с нами, с детьми, раздавал подарки, рассказывал про города, даже страны. Вечером они нас целовали и провожали спать, и у мамы было такое лицо… Я так любил это лицо, это его выражение, какое-то смущенное, застенчивое что-ли, и очень счастливое. И я знал, что это папа».
Танго любви. Фото из свободного доступа. Marwa Said
Да и не только от сына не прятал, не прятал от всего мира, когда, возвратившись за полночь с «творчества» из ЦДРИ, сообщал всем жителям двора, громыхая своим знакомым голосом о том, что жить без жены не может ни минуты, требовательно пробивая заслоны из оконных стекол своим громадным баритоном и срочно вызывая ее к себе: «Ты постой, красавица моя, выходи ко мне, моя Настёна».
Да и не только на весь мир, на всю его Вселенную, когда исполнял свои концерты. Он посвятил ей все свое самое прекрасное творчество. Ничего не скрывая, не пряча, не стесняясь себя, он удивительно откровенно разговаривал с ней, собирая в этом творчестве самые высокие и прекрасные ноты и строки об этом большом его чувстве. Его «Одинокая гармонь», «Что так сердце растревожено», «Скажите девушки», «Услышь меня, хорошая», «Расцвела сирень» , «Любовь, как песня», «Ты моя», «Весенний вечер», романсы, с которыми он нас покинул и, конечно, «Мне бесконечно жаль».
Любовь, как песня (В.Кручинин — О.Фадеева)
Они записали эту песню 15 ноября 1944 года, до 9 Мая оставалось 175 дней, маятник войны качнулся на победу, но стране еще предстояло выдержать Балатонскую оборонительную операцию. Впереди будет немало горя, потерь, страданий для того, чтобы наступила долгожданная Весна.
Мне бесконечно жаль (А.Цфасман — Б.Тимофеев)
Я понапрасну ждал
Тебя в тот вечер, дорогая,
С тех пор узнал я, что чужая
Ты для меня.
Мне бесконечно жаль
Твоих несбывшихся мечтаний,
И только боль воспоминаний
Гнетет меня.
Хотелось счастье мне
С тобой найти,
Но, очевидно, нам
Не по пути…
Иван пел, обволакивая слушателя своей любовью, музыкой своей, своей чувственностью. К нему он, разволновавшийся и страстный, несся, сметая все заслоны на своей дороге. Так отчаянно он хотел его научить видеть тонкое в женщине, в друге, в ближнем, хотел прочувствовать его ответ на свои вопросы художника, хотел знать, что нужен ему. Потому что для него, певца Ивана Шмелёва, его слушатель, его зритель был не просто четвертым, но самым главным автором в его исполнительском мастерстве.
В мае этого года будет 60 лет, как маэстро не стало. Он ушел в сорок семь. И каждое произнесенное слово признания его творчества — лучший памятник для артиста. И в это время кажется, что он никуда не уходил, он рядом. А песни, слушаемые его публикой, такой трепетный поклон певца им, тем, кем он любим через годы.
Маэстро в партии Алеко. Фото предоставлено Дмитрием Шмелёвым.
ЭТО НЕКОТОРЫЕ КОММЕНТАРИИ, НАПИСАННЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ КАНАЛА ПОСЛЕ ПРОСЛУШИВАНИЯ ТАНГО «МНЕ БЕСКОНЕЧНО ЖАЛЬ»: